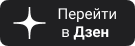«Театр Деда Мороза» приедет с гастролями в Ростов-на-Дону
Ростовская область, 8 декабря 2023. DON24.RU. В будущем году в Ростове-на-Дону пройдут гастроли «Театра Деда Мороза для детей и молодежи» из Великого Устюга – колоритного старинного городка на северо-востоке Вологодской области, имеющего статус родины главного российского зимнего волшебника.
«Наш театр, равно как и Дед Мороз, путешествует по стране. В нем заняты профессиональные актеры, приехавшие из разных уголков России, тут представляют публике разнообразные сильные постановки. И в гастрольном плане нашего театра на будущий год уже стоит Ростов-на-Дону. Благодаря этому жители донского региона смогут познакомиться с с нашими сказочными героями», – рассказал глава Великоустюгского муниципального округа Александр Кузьмин.
Донским театралам представят премьеру нынешнего года – музыкальную сказку в стиле славянского фэнтези «Морозко», рассчитанную как на детей, так и на взрослых зрителей. Гастроли в Ростове намечены на конец весны будущего года.
Какой рост у дедушки?
Чем российскому туристу круглый год может быть интересен Великий Устюг, один из старейших населенных пунктов Русского Севера? Почему его называют городом храмов и иконостасов? Насколько велика «Вотчина Деда Мороза», а еще где именно придумывают и шьют одежду для этого сказочного персонажа? Что такое барабушка? Что даст жителю юга России посещение туристического кластера на другом конце страны – на юго-востоке Архангельской области, вдоль речек Виледь, Вычегда и Малая Северная Двина? На эти и множество других вопросов, связанных с новогодней сказкой и удивительным обаянием Севера, донские журналисты получили возможность найти ответы благодаря участию в уникальном трехдневном пресс-туре, организованном для победителей творческого конкурса всероссийского фестиваля «Моя провинция».
2023 год для проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» особенный, он отмечает 25-летие. За четверть века он обрел всероссийскую известность, позволив добиться даже большего, чем задумывалось изначально, – превратил Великий Устюг в сказочную столицу страны. Один из ключевых здешних магнитов – Вотчина Деда Мороза, расположившая на 43 га в реликтовом сосновом бору. На ее территории сегодня: деревянный терем с необычной архитектурой; огромная новогодняя ель и сценический комплекс для театрализованных представлений; зоосад, где можно увидеть свыше 400 особей животных и птиц, включая редких и занесенных в Красную книгу; полноценный зимний сад. А еще можно побродить по Тропе сказок, заглянуть в кузницу или в ледник Деда Мороза, где установлены ледяные скульптуры.
Любому туристу любопытно заглянуть в терем Деда Мороза. Фото автора
Приезжающие в город туристы могут разместиться как в гостиницах Великого Устюга, так и в коттеджах, а также в гостинице непосредственно в «Вотчине».
Новогоднюю сказку прописали и в самом Великом Устюге, разместив там городскую резиденцию Деда Мороза, Почту Деда Мороза и даже Дом моды Деда Мороза, где как конструируют, так и непосредственно шьют костюмы и для волшебника, и для многих других сказочных персонажей. В «модную сказку» организуют экскурсии, где можно, к примеру, узнать рост волшебного дедушки (2 метра 10 сантиметров!) или, скажем, рассмотреть одну из его первых ярких шуб – «Праздничное сияние», а также одну из наиболее любимых – «Морозное узорочье», в основе которой бархат сочного красного цвета и сложные орнаменты из белого меха. Доступен и туристический аттракцион: экскурсантам предлагают вслепую вытянуть бумажку с названием сказочного персонажа, а потом облачиться в этот забавный наряд и даже под музыку и под светом софитов продефилировать по импровизированному подиуму в образе, допустим, веселого ярмарочного Скоморошка, Совушки, Снежной Королевы, Сосульки и др.
Гордость Великого Устюга – это и Дом моды Деда Мороза, где конструируют и шьют удивительные наряды для сказочных героев. Фото автора
Белые ночи, съезд Дедов Морозов и грибовница
Сегодня в масштабах РФ проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» называют одним из наиболее удачных примеров развития регионального бренда.
«Когда мы начинали проект, мало кто верил, что он взлетит так высоко. Больше 4 млн человек посетили Великий Устюг с момента старта начинания, и с каждым годом к нам приезжают все больше туристов. В прошлом году мы приняли практически 500 тысяч человек. Город благодаря этому проекту начинает преображаться", – сообщил замгубернатора Вологодской области Виталий Тушинов во время состоявшейся в Великом Устюге в ноябре масштабной стратегической сессии, где обсудили пути развития проекта и способы более активного привлечения на Русский Север туристов в теплое время года.
«Великий Устюг – музей под открытым небом, получил второе дыхание благодаря этому проекту", – констатировал глава Великоустюгского муниципального округа Александр Кузьмин.
Обсудили во время круглого стола и пути развития этого уникального российского проекта. Советник руководителя федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (МИД РФ) Леонид Ежов предложил задействовать и нетривиальные варианты, к примеру рассмотреть возможность провести этим летом на Вологодчине первый съезд Дедов Морозов стран СНГ. В конце концов, почему бы и нет? Зашла речь и о привлечении туристов, которые часть пути будут преодолевать на автомобиле.
Вместе с тем в этих краях подчеркивают, что туристам тут может быть интересна далеко не только новогодняя сказка, а рады гостям, без преувеличения, круглый год. Великий Устюг и его окрестности – сокровище для человека, предпочитающего умный досуг. Эти края притягательны образцами русского зодчества и памятниками архитектуры XVII–XX веков, кухней Русского Севера, народными промыслами, прежде всего связанными с чернением по серебру и уникальной, филигранной резьбой по бересте.
Достопримечательность Великого Устюга – левый высокий берег и расположенная там набережная местной реки Сухоны, а среди ее акцентов – знаменитый храмовый комплекс Соборное дворище. Фото автора
Великий Устюг – ровесник Москвы и Вологды. До революции в городе действовало колоссальное количество церквей – 38, из которых 26 сохранилось до наших дней, пусть и не все они сейчас действующие. В храмах Великого Устюга можно увидеть 15 иконостасов XVII–XIX веков. Одно из мест, которое точно нужно посетить, – белоснежная красавица церковь Вознесения. Это один из самих древних памятников города, церковь существовала уже в XIII веке.
Церковь Вознесения – среди старинных памятников города. Фото автора
Отдельная здешняя ценность – самобытная природа: полюбоваться можно не только словно достающими до неба соснами, но и, например, самоизливающейся скважиной или мысом Бык – высоким крутым берегом реки Ёрги, «картинку» которого формируют чередующиеся слои пород – мергели и известняки.
В регионе пытаются развивать деревенский и экологический туризм. В теплое время года, к примеру, в этих краях можно поучаствовать в "Грибной охоте", побывать на фольклорных фестивалях «Белые ночи над Сухоной-рекой», «Костры купальской ночи», на праздниках русской печки и каши, на необычном атмосферном фестивале «Русские Ганзейские дни», отсылающем к миру средневековья, и др.
Поездка в здешние края – это и возможность продегустировать различные ягодные морсы и пряники с... клюквой; традиционные и наливные шаньги со всевозможными начинками – лепешки, ставшие одной из визитных карточек северной гастрономии (считается, что изначально их начали печь с пшенной кашей); уху из трех видов северных рыб или грибной суп – «грибовницу» ; гречку или полбу... в шоколаде; блюда с добавлением кедровых орехов; травяные чаи; напитки с шиповником, клюквой и медом; ароматную кашу прямо из русской печи и др.
В объятиях Трёхречья
Мало того, сегодня точки притяжения туристов – это и города-соседи Великого Устюга, которые объединили проектом «Северное Трехречье». В его орбите шесть территорий Архангельской области вдоль рек Виледь, Вычегда и Северная Двина, а также город Котлас. Там можно полюбоваться природой и архитектурой, попробовать местные блюда во время гастрофестивалей или побывать на Празднике белого гриба, сплясать народный танец барабушка, увидеть три вида северодвинской росписи или, скажем, изделия с мезенской росписью по дереву, сформировавшейся к концу XIX века в низовьях реки Мезень. В основе самобытного мезенского декора – знаменитые кони на комариных ножках, изображения уточек, звездочек, черточек, выполненные лишь в двух цветах – черном и красном.
«В основе нашего проекта «Северное Трехречье» – само по себе уникальное географическое расположение здешних населенных пунктов. В этих краях реки Юг и Сухона, сливаясь, образуют реку Малая Северная Двина, которая несет свои воды до города Котласа. А в районе Котласа она еще и сливается с рекой, имеющей финно-угорское название Вычегда, и дальше до Архангельска течет как знаменитая Северная Двина», – объясняет Мария Соловьева, руководитель ТИЦ Котласа.
Туристам со всей страны рады и в Сольвычегодске – когда-то вотчине легендарных купцов Строгановых.
Факт
Общаясь с главным российским Дедом Морозом в его Вотчине рядом с Великим Устюгом, донские журналисты передали ему партию детских писем от ребят из Ростовской области. В этой стопочке простеньких и наивных ребячьих посланий были и письма от детей действующих и погибших участников спецоперации.
На Дону селяне могут воспользоваться субсидией на открытие пекарни и окупить ее за полгода
Ростовская область, 17 февраля 2026, DON24.RU. Субсидия на открытие деревенской пекарни — это новый вид поддержки, который вводится в Ростовской области. Также компенсацию можно получить на модернизацию уже действующего хлебного производства. Этот вариант может стать востребованным у фермеров в качестве дополнительного бизнеса. А также поможет создать новые рабочие места, в том числе для молодежи. Об этом в сегодняшнем номере пишет газета «Молот».
Аутентичные козыри
Субсидии начали выдавать с января этого года, данная компенсация не имеет фиксированной суммы и среди прочего зависит от направленности бизнеса. Также помощь может предоставляться в форме льготного кредитования. Особое внимание уделяется производству хлеба и реализации социальных контрактов. Программа предусматривает четыре основных направления: повышение доступности продукции за счет индивидуальных заказов и снижения издержек производства; развитие семейного бизнеса с акцентом на местные пекарни; стимулирование фермерских проектов, включая поддержку участников СВО; помощь предпринимателям на покупку оборудования, аренду помещений, логистику и обучение сотрудников.
По мнению председателя Ростовского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Виктора Троицкого, сельская пекарня может иметь несколько конкурентных преимуществ, которые помогут ей выделиться на рынке и привлечь клиентов.
Начнем с того, что в сельских районах очень мало пекарен (во многих хуторах и деревнях их вообще нет), то есть нет конкуренции. Другой козырь — свежесть и качество, которые обеспечит использование местных ингредиентов, таких как мука и зерно. Приготовление выпечки по семейным рецептам, с применением экологически чистых локальных ингредиентов, может привлечь клиентов, желающих попробовать что-то особенное и аутентичное, а также тех, кто заботится о своем здоровье. Сроки доставки продукции покупателям из-за небольших расстояний будут кратчайшие. Малый размер пекарни позволяет быстро адаптироваться к изменениям спроса, а также экспериментировать с новыми продуктами и вкусами.
Кроме того, такие малые предприятия отличает быстрая окупаемость: при грамотном подходе вложенные в деревенскую пекарню средства можно будет вернуть всего за пять-шесть месяцев. У сельской пекарни низкие операционные расходы: стоимость аренды помещения в деревне в два-три раза ниже, чем в городе, а затраты на персонал из-за его малой численности ниже на порядок.
Часто небольшие пекарни могут предложить более персонализированное обслуживание, что помогает создать близкие отношения с клиентами и повысить их лояльность. Как показывает практика, пекарня может стать культурным центром, где для местных жителей будут проводиться мероприятия, мастер-классы или другие социальные активности. Для продвижения своей продукции сельская пекарня может использовать соцсети, рассказывая о процессе производства, фермерских партнерствах и уникальных предложениях.
В Ростовской области уже есть несколько примеров успешных сельских пекарен. В частности, пекарня «Топена» предлагает хлеб, пироги и сладости, изготовленные с использованием местных ингредиентов и традиционных рецептов. Свою продукцию производители продвигают, участвуя в ярмарках. Здесь проводятся мастер-классы по приготовлению хлебобулочных изделий.
Пекарня «Ессентукская» славится своей продукцией домашнего типа, включая ржаной и пшеничный хлеб, а также разнообразные булочки и пирожки. Акцент сделан на свежести и качестве продукции.
Сеть пекарен «Сельские традиции» сделала ставку на старинные рецепты с использованием натуральных компонентов. Эти пекарни часто работают в тесном сотрудничестве с местными фермерами и производителями.
Разумная возможность
— Может ли данный сегмент благодаря господдержке быть востребован у фермеров в качестве дополнительного бизнеса?
— Да, особенно при наличии государственной поддержки, — уверен Виктор Троицкий. — Государственные программы часто направлены на поддержку инноваций, что может побудить фермеров осваивать новые технологии и бизнес-модели, увеличивая их конкурентоспособность. В свою очередь, развитие дополнительного бизнеса поможет создавать новые рабочие места, а одна из болевых точек сельских территорий — проблема с кадрами. Она была всегда, и сейчас ощущается еще более остро, так как молодые люди уезжают в города в поисках лучших экономических возможностей, что приводит к сокращению количества рабочей силы на селе. Также инвестиции в устойчивые практики и экосистемные услуги могут открыть новые возможности для фермеров и помочь в увеличении доходов. Таким образом, я считаю, что при правильной государственной поддержке и наличии разумных бизнес-идей сегмент дополнительного бизнеса может стать привлекательной и прибыльной возможностью для фермеров, способствуя их экономическому росту и устойчивому развитию.
— Как получить субсидию?
— Для получения поддержки предприниматель должен подготовить проект с четкими целями, обоснованием трат, прогнозом результатов и обратиться в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Получив финансирование, предприниматель берет на себя обязательства использовать средства по назначению, подавать отчеты и выполнять условия программы, в частности создавать рабочие места. При неуспешной реализации проекта или нецелевом использовании денег минсельхоз Дона подаст иск в суд и потребует вернуть средства.
По данным Ростовстата, в конце прошлого года существенно выросла средняя стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки: сейчас это более 94 руб./кг, на 20,2% больше, чем годом ранее. Цены на хлеб из ржаной и смешанной муки выросли на 20%: с 71,6 руб./кг до 86,2 руб./кг.